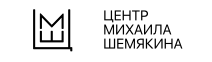Это интервью было взято мной у Михаила Михайловича Шемякина 15 мая 2014 года в помещении Фонда Михаила Шемякина на Садовой.Целиком оно опубликовано в 3 и 4 номерах журнала «АВТОБУС» за 2014 год.
Игорь Воеводский. Как главный редактор детского журнала, я всегда задаю детские вопросы. У меня к Вам три группы вопросов.
Первая: Что такое свобода творчества? За что Вас исключили из художественной школы? Почему Вам пришлось уехать из Советского Союза?
Вторая: Когда вы поняли, что Вы хотите стать художником, скульптором? Каким было Ваше детство?
И третья, которая, мне кажется, Вас должна очень волновать, а меня волнует давно: Как предохранить скульптуры Петербурга от варваров, которые трут их на счастье, садятся верхом на них? Много-много лет я хочу Вас спросить: Правда ли что Вы не против того, чтобы люди садились на колени Вашему Петру I в Петропавловской крепости?
(Михаил Шемякин начал с ответа на последний вопрос.)
Михаил Шемякин. Да, Пётр – это так называемая «контактная» скульптура. Я не Церетели (московский скульптор, создающий гигантские статуи. – Ред.). Мой памятник небольшого роста. Он доступен любому посетителю Петропавловской крепости. Я читал книжку про новые мифы Петербурга. Оказывается, с памятником связано много легенд. Считается, что если потереть руку или мизинец правой руки – можно разбогатеть, если левой руки – получить духовное богатство, ну и прочее. Не знаю, чего добиваются, когда трут ему макушку и прочие места. Но он действительно стал мистическим памятником. Боюсь, я его сейчас не узнаю, потому что он весь стал золотым оттого, что многочисленные касания стёрли с него защитный слой патины. Впрочем, по-моему, уже запрещено залезать ему на колени, и поставили какие-то ограждения.
И. В. И что же с этим делать?
М. Ш. С чем?
И. В. С тем, что все хотят потереть, и памятник разрушается?
М. Ш. Знаете, если долго тереть бронзовую скульптуру, то в ней появляется дырка! Так же, как вода обтачивает камни – то же самое, медленно, но верно, происходит со скульптурой. Даже мягчайшей человеческой рукой мы снимаем невидимый микронный слой бронзы. И со временем появляется дырка, величиной в десятирублёвую монету.
Из-за этого дирекция Петропавловской крепости и огородила памятник. Многие скульптуры в Риме и Флоренции, из-за того что люди их на счастье тёрли (а этих людей были миллионы, миллионы…), заменили копиями. А оригиналы убрали в музеи. А так – мне приятно, что у памятника возятся дети, даже залезают на него… Конечно, когда кто-то что-то царапает на памятнике, это может расстроить любого художника, да и любого жителя города!
И. В. Но где грань между тем, что вот они сели или потёрли, для того чтобы разбогатеть – и тем, что они сотворили с Вашим Памятником первым архитектором Петербурга? (Этот памятник представлял собой гранитную арку с бронзовыми рельефами и стоящий перед аркой бронзовый стол и стул. В 1990-х годах вандалы полностью разграбили памятник, сорвав и унеся все бронзовые элементы. – Ред.)
М.Ш. Ну, вы знаете, Памятник первым архитекторам – это особая статья, это уже тот вандализм, который большой волной (я бы сказал девятым валом!) прокатился по всей России. Началось с уничтожения памятников, представляющим зловещие политические фигуры. Сначала разбивали статуи Сталина, потом – Ленина. Может быть, многие из них уничтожили потому, что они были выполнены совершенно бездарными художниками, другой судьбы они и не заслуживали. Но я был одним из первых, кто написал письмо в Министерство культуры. Тревожное письмо – как крик души: «Ради бога, в этом ажиотаже не уничтожьте действительно серьёзные произведения искусства!»
Например, каким бы зловещим не воспринимался людьми, пережившими сталинский режим, памятник Дзержинскому, который стоял в Москве на Лубянской площади, я считаю его великолепным произведением искусства. Без него площадь обезглавлена. Сейчас идут какие-то разговоры о возвращении памятника на площадь. Я это не рассматриваю как возрождение сталинского режима.
Мы столько раз заново переписывали историю… В итоге Россия – это страна не только с непредсказуемым будущим, но и с непредсказуемым прошлым! Вот что особенно страшно! Мы постоянно переписываем историю и не хотим признать, как Чаадаев, что любовь к родине заключается и в том, что ты должен признавать и самые позорные страницы её истории. Тогда действительно ты её любишь…
Какие-то у меня не детские темы…
И. В. Это верно… Но вот скажите, кому и для чего приходит в голову сокращать образовательные программы в школах и вузах?
М.Ш. Как говорят в России, «ежу ясно»: когда народ не образован, его очень легко превратить в толпу. Мы часто не понимаем или сознательно смешиваем понятия «народ» и «толпа». Понимаете, народ русский – это величайший народ. Я лет десять провёл в Этнографическом музее, учась у безымянных мастеров России, из Псковской губернии, Новгородской. Изучал роскошные кокошники крестьянских девушек, расшитые сарафаны, изучал кувшины. Всё это – работы безымянных мастеров, но это действительно то великое искусство, которому я учился. Так же, как учился у мастеров африканского искусства… Каждый народ по-своему велик и бесконечно талантлив. Я не говорю уже о фольклоре, а русский народ ещё необычайно музыкален, в отличие от французского (я живу во Франции уже пятнадцать лет).
Но кто-то этот народ при помощи различных рычагов – пропагандистских, сокращая образование – пытается опустить до уровня толпы. Толпы, которой очень легко управлять. Это очень печально…
(Далее художник заговорил о помещении Фонда Шемякина на Садовой. – Ред.)
М.Ш. Это помещение – и верхнее, и нижнее – мне подарил В.В. Путин во время своего первого президентского срока, чтобы я приезжал сюда и работал в России. Благодаря этому я много работал в России, например, восемь лет проработал в Мариинском театре. Я же могу работать и у себя в Америке, и во Франции. Но мне было важно здесь, в России создать образовательную программу. Потому что ко мне вот на трёхмесячные курсы во Францию приезжали молодые профессора и преподаватели из российских вузов: и из Академии художеств, и из Ханты-Мансийска. И я столкнулся с тем, что они были похожи на чистые листы бумаги. Я начинал говорить с ними о современной литературе, о крупных мастерах, умерших лет тридцать-сорок назад, и выяснялось, что они о них не слышали ничего. Это как образованному человеку не знать Ван Гога или Пикассо! Не знают! Не знают Верлена, Бодлера, Рембо! Мало того, я с ужасом понял, что люди не знают, кто такой величайший философ и писатель, который написал «Гаргантюа и Пантагрюэля», не знают Франсуа Рабле! У меня волосы встали дыбом! Я спрашиваю:
– Чему же вы учите?
– Ну вот, мы учим, как нас учили…
Мне пришлось создать для них минимальную музыкальную и литературную программы, чтобы они, сидя с интеллигентными людьми, не чувствовали себя полными профанами. Я им сказал: «Даю вам пластинки. Понравится вам – нет, будете ошеломлены – но вы послушаете Шёнберга, послушаете Веберна и Берга! И будете знать, что были три создателя, три столпа атональной музыки… И можете не знать, что после них были композиторы Штокгаузен, Ксенакис…
И. В. А я хочу Вам сказать спасибо, потому что благодаря Вам я в середине 1970-х годов впервые услышал музыку Шёнберга, Веберна, Берга, услышал Ксенакиса и Штокгаузена, потому что я учился у Сергея Михайловича Сигитова. Он нам давал слушать пластинки, которых в Ленинграде ни у кого не было. Много позже я узнал, что эти пластинки присылали ему Вы.
М. Ш. Мы с Серёжей Сигитовым учились у Якова Семёновича Друскина. Точнее, он – у Михаила Семёновича, а я у Якова Семёновича (Михаил Друскин – выдающийся музыковед, а его старший брат – литератор и философ Яков Друскин в юности был членом знаменитых литературных групп ОБЭРИУ и «Чинари», как Даниил Хармс и Александр Введенский. Большинство участников этих групп были репрессированы и погибли. Благодаря Якову Семёновичу их произведения сохранились и были изданы. – Ред.)
Яков Семёнович первый открыл мне в те далекие 60-е годы, когда не было никаких пластинок, музыку ХХ века. На магнитофоне «Днепр-5» с клеенными-переклеенными плёнками он как-то поздно ночью поставил мне «Лунного Пьеро» Шёнберга. Я с детских лет обожаю музыку, и вдруг я погрузился в совершенно новое музыкальное видение, новое звуковое пространство! Это переменило мои взгляды на многие вещи! Яков Семёнович сыграл очень большую роль в нашей жизни, в нашей духовной судьбе: Сигитова, который меня с ним познакомил – и в моей. Он открыл нам замечательных поэтов Хармса и Введенского, которых мы читали в рукописях. В авторских рукописях, потому что Яков Семёнович сохранил их оригиналы. Он был вдохновителем поэта-обериута Николая Олейникова …
Он нам рассказывал очень смешную историю. Как-то у него делали обыск. Знали, что у него должны храниться рукописи обэриутов, которые в тот период уже все были арестованы. «Я сел на эту громадную пачку рукописей и сидел, изображая совершенно испуганного такого человека. Они рылись. Вещей было немного, но они каждую книгу перетрясали, разбомбили всё моё крошечное хозяйство. И ушли. Отплевываясь. А всё, что вы сейчас читаете, все это было спрятано под задницей, я на них сидел!»
Этот человек открыл для нас мир атональной музыки, открыл композиторов которых мало кто знал. А Миша Хейфец (советский писатель-дессидент – Ред.), пользуясь оригиналами (ему достались эти уникальные материалы), где-то на Западе их издал, за что и попал в тюрьму. Вот такая была судьба у наших учителей и у тех людей, которые шли по их стопам в те годы.
Когда говоришь сейчас про «те годы», про ту эпоху, люди даже не понимают, о чем идёт речь. Сегодня я встретил в книжном магазине художника, который подрабатывает грузчиком. И он спросил: «Я слышал, Вас изгнали когда-то из художественной школы, а за что же Вас изгнали?» Я ответил:
– За Ван Гога, за Ренуара, за Питера Брейгеля…
– Как же можно – из-за художников?!
А мы за это и в тюрьму садились, и в психушку! Я провёл полгода в страшной психиатрической клинике, откуда меня мать забрала инвалидом «на поруки». А иначе за три года принудительного лечения меня сделали бы «овощем». Так боролась с нами карательная медицина. Потому что в 1960-м году советская психиатрия официально приняла диагноз: «вяло текующая шизофрения»; а в 1961-м я уже был за решеткой, в спецклинике.
Поскольку были просьбы продолжить публикацию интервью, вывешиваю продолжение.
Игорь Воеводский
И. В. Это в шестнадцать лет?
М. Ш. В шестнадцать или в семнадцать. Я тогда тянулся к религии. А у каждого собора дежурил «стукач дешёвого разлива». И если ты, юноша, стал посещать церковь, тебя ставили на учёт и начинали тобой заниматься. Врач психиатр мне сказал:
– Любой верующий человек для нас душевнобольной. Потому что он верит в то, чего нет на самом деле.
Не думаю, что кому-то удастся вернуть нас в «старое стойло».
И. В. Вернёмся к вопросу: «За что Вас выгнали из школы? За Ван Гога, Ренуара, Питера Брейгеля?»
М. Ш. Да, собирал репродукции. Хороших было очень мало, но был такой магазин – «Демократическая книга», на углу Невского и улицы Герцена (сейчас Большой Морской). Мы узнавали от продавщиц, что завтра, скажем, привезут альбом Ван Гога. Ночью уже выстраивалась очередь. И ночи напролёт мы стояли у дверей магазина, чтоб не пропустить этот альбом. В этом магазине были замечательные альбомы. Сейчас нет этой культуры репродукции, никто не понимает в этом. А мы знали, у кого лучший оттиск, например, картины Пьеро делла Франческа. Я покупал репродукции у одного коллекционера – Дворкина, это было сказочное время. Я приходил к нему утром в воскресенье и весь день рассматривал пачки репродукций, он поил меня чаем, а покупал я только одну репродукцию. Копил 2-3 месяца деньги, экономил на желудке, потому что репродукция стоила 20 рублей – в то время это были «бешеные деньги». Зато он мне позволял любоваться его коллекцией. И я на этом воспитывался. У нас был культ репродукции. Мы прекрасно воспитали свой глаз и не позволяли себе ничего плохого покупать, потому что не было денег. Как говорят англичане – «мы слишком бедные, чтобы покупать дешевые вещи».
То же самое было с джазовыми пластинками – Майлз Дэвис, Колтрейн! Эти великие джазовые музыканты приходили к нам пластинками. Было несколько человек, которые доставляли из-за границы лучшие записи. Пластинка запечатанная – стоила 60-80, а то и 100 рублей, а если распечатанная – то 25. Нужно было деньги копить. Так я свой желудок подорвал, имел весь «набор» болезней: гастриты, колиты. Но у меня была крошечная, но уникальная (!) коллекция джазовых столпов и была небольшая коллекция репродукций, на которой я воспитывался. Потому что это было очень важно – отличить, где свет более тёплый, где холодный и прочее.
Есть замечательная статья (я обязательно должен Вам её оставить), она вышла лет 15-20 назад – «Эстетический вызов Японии». И вот там как раз о детях говорится – что такое воспитание. Вы будете потрясены: там учителя вывозят детей на природу, и ребёнок 5-го класса должен различать шестьдесят оттенков серого цвета: серый тёплый, серый бежевый и так далее. И это – просто обыкновенная школа. Эта статья вам пригодиться.
На этом заканчивается 1-я часть интервью Михаила Шемякина, данная им в Петербурге в Фонде М.Шемякина на Садовой улице 15 мая.