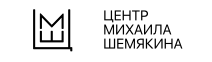Михаил Шемякин и Петербург
Михаил Шемякин и Петербург Петра Первого
Творчество Михаила Шемякина овеяно духом Петровского Петербурга. Что такое Петровский Петербург? Почему он способен послужить начальным толчком для произведений талантливого художника?
Дело в том, что эпоха Петра обладает особой энергией, способной действовать даже через два с половиной века. Солнечная активность, пробегая огромные расстояния, воздействует на каждого из нас. Активность Петровской эпохи воздействует изобретательно. В данном случае она избрала творчество Шемякина.
Не удивляйтесь моей точке зрения. Она состоит в том, что Петр довел до государственных высот древнерусскую народную стихию смеховой культуры. В древней Руси, и особенно в XVII веке, процветало карнавальное высмеивание всего на свете. Высмеивались формы различных документов, официальные церемонии, духовные завещания, государственные распоряжения, обряды, даже молитвы и церковные богослужения.
В свое время смеховым, кромешным бунтом был для известной части населения самозванец Дмитрий, а его польское окружение – скоморошьей артелью. Шайки бунтовщиков за сто лет до Петра на скоморошный лад «гуляли» по всей Руси, доходя до ее окраин на Севере, Востоке и Юге. Крик и крайности в русской культуре вообще играют большую роль. Вспомните казаков, уходивших на окраины русского царства, или крайности русского характера, поведения, мировоззрения.
Петр Великий был типичным русским человеком XVII еще века. Для него кромешная культура скоморошества была крайне (тоже «крайность») характерна. Он перенес столицу государства на самую границу Русского государства – на берега неспокойного Балтийского моря. Он переодел народ в короткое, казавшееся скоморошным, иноземное платье, обрил бороды, вековечно считавшиеся на Руси основным атрибутом – достоинством мужчин, заставлял почетных людей собираться и танцевать на иноземный лад на «ассамблеях», переодел армию в форму своих детских потешных полков, учредил «всешутейный и всепьянейший» церковный собор и т. д. Из всего этого смешения он создал новую полудемократическую-полубюрократическую культуру, внешне европейскую, а по существу глубоко русскую. Древнерусская культура в своих крайних, петровских, формах уничтожила сама себя. Явление трагическое, но парадоксальным образом вдохнувшее в конечном счете новое творческое начало в русскую культуру.
Что взял Михаил Шемякин от любимого им Петра и его главного детища – трагически-прекрасного Санкт-Петербурга? Прежде всего, он обратился к народному лубку Петровского времени с его всешутейшим характером, яркой трансформацией европейской нарядности. Лубок развешивался по бревенчатым стенам крестьянских изб и постоялых дворов и был способен своими яркими красками осветить их полутьму. Изображаемые Шемякиным люди живут в тесных, как избы, пространствах его картин, пляшут как лицедействующие скоморохи, извиваются в смеховых позах.
Авангард начала XX в. сомкнулся с народной культурой России допетровского времени, но лишь в творчестве Шемякина искусство обратилось к истокам трагического петровского разлома, когда соки живого дерева потешного скоморошьего искусства брызнули на народное искусство, способствуя появлению совсем новых ростков.
М. Шемякин не остановился на темах, близких Петровской эпохе. В его творчестве высокий профессионализм поднимается значительно выше импровизированного народного искусства. Его изощренный рисунок и яркие краски несут в себе подлинный артистизм большого мастера, остро ощущающего трагизм современной русской действительности: не просто в темах, а в значительно более сложных художественных преломлениях.
Искусство Шемякина – это искусство обнажения. Обнажение – метафизическое обнажение – суть нашей русской действительности. Обнажились язвы, нанесенные себе самобичеванием. Обнажилась нагота юродивого – одновременно святого и скомороха. Мы увидели себя святыми и предателями, мучениками и шутами, как их изобразил Достоевский.
В последнее время у Михаила Шемякина обнаружился интерес к скульптуре. Скульптура – самая слабая отрасль нашего искусства. И снова в творчестве Шемякина появляется грозная фигура Петра. На это раз в виде впечатляющей «восковой персоны», чем-то напоминающей гениальные скульптурные образы Генри Мура. Выдавая творческую тайну Шемякина, скажу, что в Шемякине обнаруживается талант, без которого не может существовать скульптура – талант ощущения весомости, полноты, силы материала и формы. Его Петр «держит» окружающее пространство. К нему будет боязно подойти, как было боязно подойти к Петру живому.
Дай-то Бог! Счастливого пути постоянно путешествующему страннику-художнику, – пути познания в творчестве.
Статуя Петра Великого Михаила Шемякина в Петропавловской крепости
Когда – то в Петербурге было довольно много скульптурных изображений Петра. Против Адмиралтейства на набережной стояла скульптура, изображавшая Петра строящим лодку. Рядом была другая: «Петр спасает рыбаков на Лахте». Всего в Петербурге было более десяти скульптур Петра, которые отнюдь не представляли собой памятники Петру, а больше подходили к типу садовых скульптур. Как будто в жанре этих садовых скульптур поставлен и шемякинский «Петр» в Петропавловской крепости. Но озелененный двор Петропавловской крепости не сад. Здесь, в Петропавловской крепости, кругом здания тюрем – казематы, камеры, казармы. Здесь когда-то Петр собственноручно пытал тех, кого считал изменниками и злодеями. «Петр», созданный Михаилом Шемякиным, не может стоять здесь как триумфатор или садовое украшение. Он не стоит на месте, достойном памятника, и здесь нет места для садовой скульптуры.
«Петр» Шемякина не похож на «Петра» Растрелли – отца, стоящего против Михайловского замка, ни на «Петра» Фальконе на Сенатской площади. «Петр», гордо восседающий на коне против Михайловского замка – торжествующий триумфатор, похожий на Марка Аврелия на капитолийской площади в Риме. «Петр», вздыбивший своего коня на Сенатской площади, – властный преобразователь гигантской страны, властитель, вздернувший Россию на дыбы. «Петр» Шемякина – без пьедестала, он не вздергивает Россию на дыбы, – он отправляет изменников на дыбу.
Он не может стоять памятником, он увековечен как бы присевшим в кресле, чтобы судить, выносить приговоры. Он занят черной государственной работой. Поэтому он без парика, и его бритая голова кажется непривычно маленькой, а ноги в стоптанных башмаках – непривычно большими. Так и представляешь его быстро шагающим по недостроенной набережной с не поспевающими за ним приближенными, как на картине Серова.
«Петр» не на троне. «Петр» в кресле. Он присел на короткое время. Его большие нервные руки вот-вот вцепятся в подлокотники кресла, а может быть, в рукоять топора. Сам он в гневе или в ожидании ответа. Глаза «Петра» чуть-чуть навыкате. И вместе с тем он достоверен, он копия «восковой персоны», которая стоит на том берегу Невы, в Старом Зимнем дворце, где он умер. Вокруг «Петра» как бы магнетическое поле: он притягивает и отталкивает. Он смотрит в нашу эпоху. Ему не до восхвалений и не до осуждений. Он выше похвал и брани. Он допрашивает нас. Поэтому он вблизи нас. До него легко дотянуться, но кто осмелится переступить магнетическое поле, отделяющее его, судью, от нас, изменивших его заветам.
Недаром питерцы во время блокады несли цветы на его могилу, которая тут же, рядом, не случайно создалась и легенда о том, что, когда вскрыли его могилу, при изъятии ценностей из императорских могил, он так грозно взглянул на осквернителей и пригрозил им, что они уже больше не решались подступить к нему.
Встречи с «Петром» боялся не один Евгений в «Медном всаднике» Пушкина. И не одного Евгения преследовал «Петр» в своем городе. Легенда говорит, что «Петр» встретил императора Павла на улицах пустого Петербурга в белую ночь и предрек ему скорую смерть. Оживший «Медный всадник», громыхая, поднимается по лестнице к террористу – революционеру в романе Андрея Белого «Петербург». Блокадная легенда рассказывает о «Петре» на ленинском броневике (ему куда способнее было овладеть ленинским броневиком, чум Ленину петровским конем!), защищающем свой город от врагов.
Поза Петра, с пальцами, готовыми впиться не то в подлокотники кресла, на котором сидит, не то в горло провинившегося, которого допрашивают, более экспрессивна, чем начальственная, вельможная поза Петра на картине Ге «Петр и царевич Алексей». У Ге Петр – сановник в гневе. У Шемякина «Петр» всем телом устремлен к нам и всем телом требует ответа. Какого ответа? На что? За Россию, за погубленный город, за оскорбленные храмы (Петр бывал и богомолен, пел на клиросе), за разграбленные сокровища, за флот и добытые им порты, за выход к морю.
О нет! «Петр» не судит с высоты царского трона. Он требует от нас с того уровня, на котором находимся рядом с ним мы. Он такой же. Он не на постаменте. Его чулки кажутся заштопанными (Екатериной I). Каблуки, наверное, сбиты на башмаках. Парика не просто нет на голове, вероятно, валяется недалеко в траве.
Случайно ли он сидит здесь, как нищий, недалеко от паперти храма и от могилы, где лежит? Здесь, недалеко у выхода из Петровских ворот, его бедный дом, там стояла его лодка.
Я знаю, что Шемякин долго искал место для своего «Петра». Его не пустили в его Летний сад, ни в сад величественных преемников Петра у Зимнего дворца. Он сидит у паперти в нищем зраке, и у каждого проходящего требует как милостыню ответа. На Веселом острове в «веселое» время русской истории…
Михаил Шемякин и Петербург
«А в Петербурге кто не бледен», – так говорит Нина в лермонтовском «Маскараде». Но в Петербурге бледны не только люди. По-своему бледен воздух, бледны водные пространства, небо, столь широко раскинувшееся над городом. Были бы бледны и здания, если бы в исторической части Петербурга они не красились столь щедро. Окраска зданиям нужна, чтобы пробиться сквозь туман, через моросящий дождь, через пространства обширных площадей и прямых улиц, через просторы рек и каналов, а кое-где и через врезающееся в город море, когда перед тем как быть скованным зимним льдом оно бунтует наводнениями, заливающими город серыми красками. Здания защищаются от наступающей на них бледности яркой окраской своих стен в желтый, красный, синий, зеленый, белый. Эти же цвета нужны были в старом Петербурге для форменных мундиров и сюртуков чиновников и гвардии.
Петербург – красивейший город потому, что он выстроен на некрасивейших болотах, мокрых низинах, в объятиях серого пресноводья.
Красота и яркость нужны, чтобы люди не сталкивались лбами, чтобы корабли не наезжали друг на друга, чтобы кареты не валились с мостов, и… чтобы прежние владетели этих мест не узнали в них своих земель, но это как бы «по секрету».
Выстроенный на чужой земле, вне сферы крестьянского быта, Петербург нуждался в веселье ассамблей и маскарадов и всяческого шутовства. Повзрослев, он стал городом балетов, опер, парадов и выставок. Петербург утверждает настоящее, чтобы подчеркнуть значимость своего прошлого, своих побед на суше и море. Пушечный выстрел в 12 часов со стен Петропавловской крепости ежедневно будит Петровскую эпоху.
Петр любил смех и хохот; хохот, может быть, сильнее смеха. Многое в его начинаниях проходило вначале через смех и хохот. Он купил арапа, чтобы смеяться, но пробудил в нем инженера. Петр устроил из России грандиозный карнавал: переодел всех в кургузые одежды, казавшиеся смешными, постриг бороды, завел непривычные маскарады и действа, завел кунсткамеру, где выставлял уродов и всякие необычности, многое переименовал и перефасонил на иностранный лад, всегда казавшийся русским смешным и несерьезным. И местности он стал называть на немецкий и голландский манер: Ораниенбаум, Петергоф, Дудергоф, Анненгоф, Шлиссельбург и т. д. Россию, как сценическую площадку, он придвинул к самому краю своего государства: смотрите, любуйтесь через огромную оркестровую яму Балтийского моря. И сам он выглядел как маскарадная фигура: огромного роста, преображавшийся в простых людей: плотника, бомбардира, но и в императора…
Все это я пишу, чтобы был понятен и сам Михаил Шемякин с его любовью к Петру и Петербургу в целом, ибо «Серебряный век» (самый короткий из всех «веков» – всего 25 лет), отсветы которого падают на Михаила Шемякина, тоже жил в значительной степени памятью о Петре: вспомните «Поэму без горя» Ахматовой, маскарадные дурачества Михаила Ремизова, да и многое другое.
Петр, подобно византийским императорам, возил с собой книги, нужные в его царской работе. М. Шемякин возит с собой воспоминания виденного им в Эрмитаже, в Петербурге, в России, чтобы совсем по-новому взглянуть на знакомое, подготовиться к битвам. Его произведения – поля сражений. Он не просто создает произведение, он идет в атаку, приступом берет заполонившее безвкусие и отправляет его в плен, выставляя на позорище…
М.Шемякин продолжил серию скульптурных изображений Петра. Петр – триумфатор перед Михайловским замком: император Третьего Рима, чем – то похожий на капитолийского Марка Аврелия в Первом Риме. Петр – победитель перед зданиями Синода и Сената, чем-то похожий на Георгия Победоносца на коне: Цезаря Второго и Третьего Рима. Но Петра жестокого и деспотичного еще не было в Петербурге, и М. Шемякин поставил его около тюрьмы, в которой томился и погиб сын Петра Алексей… Его Петр напоминает «восковую персону» Петра, царствующего по сей день на противоположном берегу Невы в остатках первого, петровского Зимнего дворца у Зимней канавки.
М. Шемякин продолжил на берегах Невы шествие сфинксов. Первая пара египетских сфинксов стоит у Академии художеств как раз против того места, где произошла трагедия декабристского восстания. Они и были поставлены после Декабристского Восстания, в 1832 году, в ознаменование грядущих несчастий самой большой из существующих в мире империй. Вторая пара «сфинксов» поставлена выше по Неве после поражения в Японской войне и первой русской революции – это знаменитые «ши – Цзы» и дворца великого князя Николая Николаевича и тоже на Неве. Третья пара сфинксов стоит на Большой Невке против здания обкомовских банкетов Ленинграда и знаменует трагедию России. Еще выше по Большой Неве как раз против самой страшной тюрьмы «Красного террора» оставил свою пару сфинксов М. Шемякин. Петербург обрел свою «дорогу сфинксов».
Парность сфинксов символизирует как бы внутренний характер происходящих трагедий. Гибель происходит от раздвоения народа, от «междоусобных браней», от разделения Руси на «опричную» и обычную. Но перемена наметилась и в самих сфинксах. В них ясно обозначились черты смерти. Одна половина лица – череп, другая еще жива. Победит ли жизнь смерть? Вопрос этот более жесток, чем у Пушкина в «Медном всаднике»: «И где опустишь ты копыта?» Чем кончится «санкт-петербургский карнавал»? И только ли это «карнавал»?
Источник: Лихачев Д. С. 1) Михаил Шемякин и Петербург Петра Первого // Мир Шемякина. Нью-Йорк, Москва, Рязань, 2000. С. 18–19; 2) Статуя Петра Великого Михаила Шемякина в Петропавловской крепости // Там же. С. 20–21; 3) Михаил Шемякин и Петербург // Там же. С. 22-23.
Взято с: http://likhachev.lfond.spb.ru/